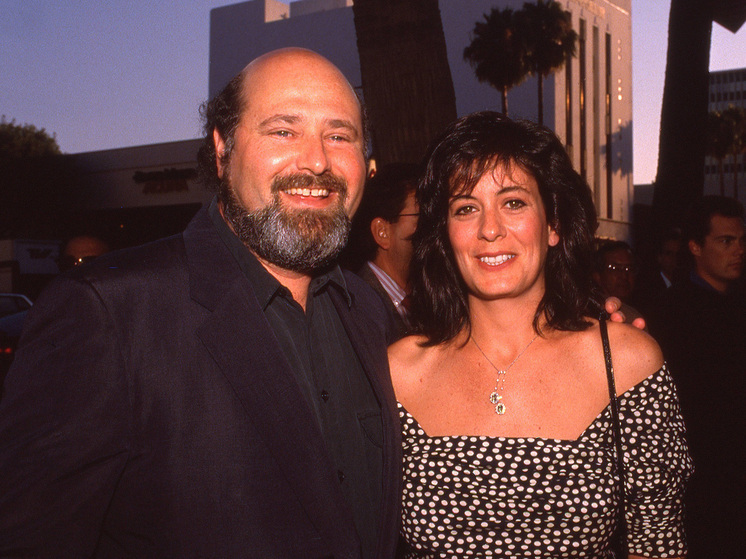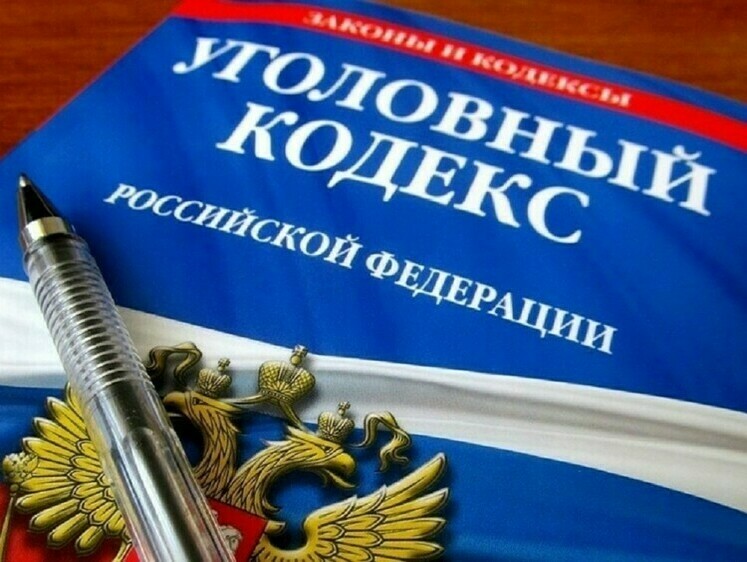Мы разговариваем с известным юристом и блогером Антоном Самохой о семейных отношениях, детях и о том, какие правила безопасности нужно соблюдать в человеческом обществе.
— Мы с тобой знакомы довольно давно, и я всегда помню тебя юристом, но в последнее время ты стал таким известным популяризатором, что я хочу спросить: кто ты сейчас?
— По жизни я юрист и им всегда останусь, потому что именно юридическая сфера дала мне все эти возможности. Весь мой контент юридический, и в основном он о безопасности. Юристом я начал работать в 2001 году. Сначала в прокуратуре, с 2008 по 2011 год — федеральным судьей, с 2012-го — адвокатом. И вот с 2022-го я решил проститься с системой и ушел из адвокатуры, поняв, что мне там слишком душно. Ушел в свободное плавание, в самозанятость. Параллельно я развиваюсь в медиасфере — такую возможность дают соцсети. Я написал три книги: две для обычных людей и одну для юристов по личному бренду.
— Как случилось, что ты стал писать?
—В пандемию я пытался найти дополнительный источник дохода и устроился копирайтером. С нуля. Я никогда не был копирайтером, но благодаря работе с одной компанией у меня выходят статьи в таких журналах, как РБК Pro, «Секрет фирмы», «Деловой мир», «Альвента» (дочка «Консультант Плюс»). И я составил себе резюме копирайтера, это такой очень хороший опыт. Сейчас я занимаюсь тем, что рассказываю о безопасности детей и взрослых в своих социальных сетях. Точно я не считал, но у меня общая аудитория, наверное, где-то тысяч 300 во всех социальных сетях.
— Во всех?
— Почти. Я считаю, что много аудитории не бывает. Плюс меня приглашают на различные форумы, в прошлом году мне даже посчастливилось выступать перед журналистами из 70 стран мира.
— Хорошо. Насколько я помню, ты долгое время занимался семейными отношениями, взаимоотношениями мужа и жены, браками, разводными процессами и прочими вещами. Что тебе дал этот опыт работы как семейного юриста, как эксперта по семейным отношениям?
— Ну, во-первых, это дало мне возможность делать контент, потому что семейные вопросы интересуют всех. Понимание и анализ самых частых ошибок позволяют мне, скажем так, зацепить любого человека, дать ему какие-то полезные рекомендации. Ведь все дела, через которые я проходил, как правило, включали в себя ряд типичных ошибок в браке и во взаимоотношениях с детьми, которые этот самый брак рушат.
И если знать эти пять-семь ошибок, то можно избежать неприятностей уже на ранней стадии: на этапе знакомства, этапе воспитания ребенка.
Это дало мне огромный опыт. И так получилось, что я учился на чужих ошибках, потому что у меня в браке все в порядке. Тем не менее этот опыт дал мне понимание того, что на самом деле все в жизни, где происходит взаимодействие людей — от бизнеса до государства, — это модели семейных отношений. Всегда есть некий человек, который доминирует, есть человек, который не доминирует, и есть взаимодействие на уровне договора.
То есть я считаю, что брак — это некий союз людей, который по факту равносилен контракту между любыми участниками государства и общества. И все в мире работает по одному и тому же принципу, что в браке, что в жизни. Ну как-то так, если коротко. Если чуть развернуто, то и в браке, и в жизни, и в государстве обе стороны должны придерживаться одних и тех же норм, вкладывать примерно одни и те же ресурсы, двигаться приблизительно с одной и той же скоростью.
— А есть какие-то исключения, ведь люди же разные? Мужчина сильнее — женщина слабее, женщина хитрее — мужчина проще и так далее.
— Да, здесь начинается интересная философия. Потому что, с одной стороны, все основано на равенстве, ведь весь мир должен находиться в балансе, уравниваться, а с другой стороны, это уравнивание происходит абсолютно нелогичным для многих способом.
Уравнивание — это когда одна сторона чем-то поступается, но получает что-то взамен. Как в государстве, люди отдают свободу взамен безопасности. У нас многие примитивно воспринимают брак как равенство двух супругов в финансовом плане, причем они оба должны хорошо зарабатывать. Вот тебе рецепт счастливого брака.
Но в справедливом договоре, несмотря на то что кто-то всегда уступает, а кто-то преобладает, в выигрыше должны находиться обе стороны. Один несет добычу, другой хранит очаг. И такое уравнивание происходит не дословно, а в плане вклада чего-то вообще, в принципе. И равенство заключается в том, что супруги определяют, что в свой союз они могут вкладывать что-то разное, но в равной степени, то есть дополняют друг друга.
Если при этом один человек чувствует себя ущемленным, то здесь не будет ни уважения, ни перспективы, ничего. И в любом партнерстве так же. У одного человека есть деньги, у другого энергия и идея, чтобы этот проект двигать, и это тоже будет равное вложение.
Поэтому о чем мы говорим? О том, что равенство не всегда очевидно.
— Согласен. Мы тут вскользь затронули тему детей. Я недавно слушал книгу «Тело помнит все», автор — Бессел ван дер Колк. Помимо всего прочего, помимо искалеченной психики ветеранов Вьетнама автор затрагивает проблему насилия над детьми. И я был удивлен, насколько это глубокая, обширная и табуированная тема. Я был просто поражен, когда начал изучать источники: и наши, и зарубежные. То есть по факту дети ежеминутно, ежесекундно во всем мире подвергаются насилию в различных его формах. И таких детей миллионы. Вот я слежу за твоими соцсетями, вижу, что ты как раз много времени этому уделяешь. Почему вообще ты этой темой занялся? Это просто так вышло или был какой-то толчок?
— У меня у самого есть дети. Они уже выросли, один ребенок сейчас учится на факультете журналистики, кстати, а девочка еще в школе. Но мне как отцу важно, чтобы мои дети выросли и вспоминали обо мне только хорошее. Это во-первых. Во-вторых, для меня важно, чтобы они в таком относительно взрослом возрасте могли выйти из дома и быть в безопасности. Чтобы у меня голова не сильно болела, что они попадут в какие-то неприятности. То есть я вижу свою миссию прежде всего в том, чтобы научить своих детей определенным правилам. Учитывая мой опыт, я могу это сделать. С другой стороны, мне сразу режет слух, когда кто-то в очереди, например, или в ресторане кричит на ребенка.
— Да, эти прилюдные крики — настоящая дикость.
— Взрослые не думают почему-то, что ребенок все это запомнит. И я вижу эти манипуляции. Когда родитель, для того чтобы успокоить ребенка, начинает манипулировать какими-то моментами: типа сейчас на нас посмотрят как-то не так, о нас что-то скажут не так.
Вот маме стыдно, а у ребенка потом формируются огромные комплексы. И он уже не может себя как-то реализовать в жизни. Еще хуже, когда кто-то говорит ребенку: «А сейчас дядя-милиционер тебя заберет». И ты понимаешь, что этот ребенок интуитивно, подсознательно чувствует, что мама его может вообще куда-то сдать незнакомому мужчине. То есть это как будто бы какое-то предательство в семье.
— И он будет думать, что мир полон опасности. И первый, кто тебя сдаст, — это твои родители, потому что ты неправильно себя ведешь.
— Именно. И это, наверное, какая-то уже профессиональная деформация, когда ты начинаешь об этом думать. С другой стороны, ты понимаешь, что можешь сказать об этом людям, и ты просто это говоришь. То есть здесь нет какой-то сакральной идеи, сакральной мысли. Это для меня как блогера, как юриста хороший шанс сказать что-то людям, привлечь их внимание, хотя, возможно, я до всех не достучусь.
— Ну это очевидно.
— Но, скажем так, лучше я это буду делать, а люди не будут воспринимать эту информацию и будут спорить со мной, чем я этого делать не буду, как будто этого не происходит, как будто этой проблемы нет. Я считаю, если проблема есть, её надо озвучивать. Тогда это первый шаг к решению этой проблемы. И если я какой-то вклад в её решение могу сделать, я его делаю.
— Поговорим о советах, которые ты даешь по поводу безопасности детей... Понятно, что ты их даешь как бы сам себе, с одной стороны. С другой — делишься своим опытом. С третьей стороны, ты говоришь их как юрист. А с четвертой — просто как человек, который, условно говоря, работает волонтером для всех, выкладывается. А что ты получаешь обратно? Насколько это вызывает отклик у людей? Насколько тема безопасности детей важна или интересна?
— Она суперважна и мегаинтересна. Мои посты про безопасность детей набирают миллионы просмотров. Последний, по-моему, восемь миллионов набрал. И я сталкиваюсь с тем, что наше общество по большей части хочет сказать, что это не проблема, потому что мы выросли в условиях гораздо более суровых и нас никто безопасности особо не учил.
— В детстве — да, росли как трава.
— Но выросли все-таки. Мы все-таки молодцы. Поэтому большой процент поддерживает меня, какой-то процент не поддерживает. Отклики абсолютно разные, но их много. Их очень много, что говорит о том, что, скорее всего, даже те, кто не поддерживает, возможно, сомневаются в правильности своих действий по отношению к детям. И, может быть, по отношению к себе в детстве.
— У меня иногда создается впечатление, что в нашем обществе тема насилия над детьми практически табуирована. Так ли это? Каких-то размышлений серьезных на эту тему или дискуссий я не встречал.
— У нас мало организаций, которые официально этим занимаются и получают финансирование. Вообще тема насилия в семье очень закрыта для общества, скажем так. Общество предпочитает считать, что этой проблемы не существует, а то, что является насилием, по общему мнению не является таковым.
У нас действует ряд организаций, о которых я могу много рассказать, о которых я знаю. Но в масштабе всей страны это какие-то единицы, которые работают за идею, потому что финансирование не получают. Не происходит обмена опыта с зарубежными организациями.
В той же Великобритании есть оградительный ордер, когда человеку запрещают подходить к жертве. У нас этого нет. У нас жертва и насильник живут в одной квартире, пока месяцами происходит рассмотрение заявления. К чему я это говорю? Из-за отсутствия обмена опытом, из-за закрытия вот этого контакта со многими правовыми школами, которые имеют наработанные инструменты, из-за отсутствия конкуренции, грубо говоря, мы не можем у себя взрастить ничего нового. А на каких-то старых идеях мы не можем выезжать, потому что они уже не работают. Ну как-то так, наверное.
— Есть ли обычная схема, я говорю про детское насилие, если мы берем семью? Например, чаще муж применяет физическое насилие в отношении ребенка и жены? Или только к одному члену семьи? Всегда ли муж, допустим, бьет жену и ребенка? Или ребенка бьет жена, а муж — жену? Есть какое-то гендерное распределение?
— Я бы не сказал, что оно есть. Возьмем недавний случай в нашей стране с девушкой, которая работала на одном из маркетплейсов. Её муж бил ребенка, а она об этом знала, ничего не предпринимала, и в итоге ребенок погиб. Я не вижу здесь какого-то разделения, кто больше. Но я могу по крайней мере сказать о том, что есть. Физическое насилие есть, наверное, в большинстве семей. Я не побоюсь этого сказать. И удар по пятой точке, какое-то одергивание — да, это тоже насилие.
— «Советские люди» с тобой бы поспорили, они так не считают!
— Да, «советские люди» так не считают. Более того, я всегда — иногда намеренно, а иногда и случайно — вызываю их гнев на себя, но это вообще административная ответственность. Это побои, когда ты ударил ребенка по попе, потому что кто-то вдруг решил когда-то, что это можно. Но я спешу родителей разочаровать: это нельзя делать даже по закону. Всё. Это побои, это наказуемо!
Любое физическое воздействие одного человека по отношению к другому является побоями. И мы не можем здесь делать исключения. Нигде ничего другого не написано.
— Вот на этом стоп. То есть получается, что дети у нас, родителей, оказывается, не являются той собственностью, какой были крестьяне у помещиков до реформ Александра II, когда те могли их продавать, избивать, заставлять работать, требовать беспрекословного повиновения, пороть розгами и ставить в угол на колени, на горох?
— Ты мне помог сузить тему, потому что я уже понял, что мысли разбегаются, а здесь абсолютно четкий вопрос.
Проблема в том, что действительно да, родители считают детей собственностью, мужья часто считают жен собственностью. И главное то, что и жены-то считают себя собственностью тех мужей, которые их бьют.
А ребенок — это некое существо, которое можно ударить, потому что он делает не так, как хочется родителям. И это проблема, потому что у ребенка в детстве уже есть свое мнение. Не знаю, мне кажется, что наше поколение, наоборот, в себе должно видеть вот этих ущемленных людей, которые не могут что-то сказать, что-то прокричать. Все мы шепчем в общественных местах, а многие блогеры боятся снимать рилсы, потому что они не знают, как на них посмотрят, что они с камерой, что они читают. Это большая проблема, но мы ее не видим по большей части. Я не хочу залезать здесь на территорию психологов, я могу лишь констатировать то, что вижу.
Я над этим вопросом долго думал и пришел к выводу, что это крестьянская сущность советского, российского человека. У нас в России на 1913 год было, по-моему, из всего состава населения около 80 % крестьян. И эта сущность до сих пор осталась, потому что в крестьянских семьях ребенок всегда рассматривался как собственность, как существо, которое должно слепо подчиняться всему, что скажут родители. Подчиняться, работать и еще быть источником дохода. У детей была функция, это был источник дохода и, не знаю, личный раб или как-то еще.
То есть ничего того, что мы можем с точки зрения культурного человека о детях думать, в крестьянских семьях не было. И Советский Союз это только усугубил абсолютно, я так полагаю, если не брать сильно урбанизированные города вроде Москвы или Санкт-Петербурга.
— У нас вообще, в принципе, я заметил такую тенденцию, что применение насилия в обществе многие расценивают как нормальный способ прекратить какой-то конфликт. В коллективе еще с советских времен личное пространство вообще не в приоритете. Мы просто рассуждаем, а какой-то психолог все это структурировал бы, но я вижу проблему глубже: все это начинается с того, что мы вообще личных границ не видим.
— Очень хорошо, я постоянно думаю о том, что личные границы — это понятие, которое не определено, которое никто не знает, о котором все говорят, но никто не хочет их соблюдать.
— Никто не хочет соблюдать, да. Это во всем. Я не знаю, как ты это отразишь у себя, можно ли об этом говорить, но это публичная информация. Вот я делал рилс про ситуации со священником, который ударил девушку в компании сверстниц за то, что ни шумели. Громкая история, которая прошла по всем федеральным каналам.
Казалось бы, что может быть хуже такого поступка, но в комментариях я увидел очень много мнений, что он поступил правильно. Мол, эти девочки заслужили, они должны были получить за то, что они так орали ночью, и, если бы вы были на его месте, вы бы тоже так сделали. Многие люди считают насилие оправданным по отношению к любому человеку.
— Между нами, мальчиками, говоря, понятно, почему они так считают. Потому что, когда другой инструментарий не работает, насилие работает всегда.
— Абсолютно так, но почему-то все забывают, что на этом месте могли бы быть они сами или их дочери.
— Тоже верно.
— И я искренне не верю, что общество так считает. Я думаю, что они заблуждаются. У меня вера в человечество еще осталась: эти люди просто хотят как-то выразить свое мнение, но на самом деле они бы так не сделали.
— Сто процентов. Я так тоже... Все-таки таких людей, которые скоры на расправу по отношению к чужим людям, не очень много, конечно. Я думаю, что 90-е годы сильно почистили когорту людей, которые при первом же конфликте пускали в ход руки-ноги и прочие средства насилия.
— Тут еще второй момент можно параллельно отметить. Люди, которые применяют насилие к другим, руководствуются следующей идеей: у нас никогда прав не было, почему они должны быть у других. Только я не понимаю, почему они искренне желают это своим детям: «У вас этих прав тоже не будет». То есть мы как-то жили, и вы будете жить так же.
Я не понимаю эту логику. Надеюсь, что я ошибаюсь, что это какая-то кривая логика, что я ее неправильно толкую. Но мне кажется, что это связано с юридическими правами, которых не было у тех детей.
— Возможно. Но тут может быть еще, что люди просто другого отношения не видели. Посмотреть по телевизору, прочитать книжки — это одна история, а прочувствовать на своем опыте — другая. И для того чтобы это прочувствовать, нужна постоянная конкуренция культур, систем, общественных формаций, городов.
— Можно еще дальше пойти. Возможно, они считают, что, если они отпустят вожжи и дадут детям какие-то права, это выведет их из-под контроля, и они пустятся во все тяжкие или выступят против папы и мамы.
— Да неважно, против кого, потому что идея о собственности на человека подразумевает контроль. Контроль подразумевает собственность. А собственность подразумевает «что хочу с ним, то и делаю», всего-то.
— Я все-таки к людям хорошо отношусь, я верю в человечество. Я считаю, что люди, может быть, все-таки боятся. Они не осознают, но они просто боятся за своих детей и поэтому не могут отпустить контроль.
— И это тоже. То есть это страх. Это все-таки не желание чего-то плохого. Это чувство страха за своего ребенка. Но они по-другому не умеют. Все это время с психологами работать над детскими проблемами было немодно. У нас и сейчас-то, собственно, психологов не сильно жалуют в семьях. Каждый родитель считает себя квалифицированным психологом чуть ли не с рождения.
И они не знают, что им психолог даст хорошего. Они не понимают, зачем им идти к нему, если все и так хорошо. Ну держат они ребенка в узде. Не разрешают они ему делать определенные вещи. Ругают, бьют. Но они считают, что это нормально и ребенок вырастет, а потом он сам пусть собой занимается. Но никто не понимает, что потом ребенку будет очень сложно выйти в мир и при всех этих запретах, при этом психологическом и физическом давлении начать полноценную жизнь.
— Что бы ты посоветовал подросткам в плане соблюдения своей безопасности как бывший судья по уголовным делам?
— Такие советы я регулярно даю в своем блоге, но давай начнем с самых простых вещей, которые, может быть, не так очевидны, как кажутся, но могут помочь и даже спасти жизнь.
Первое. У ребенка всегда должен быть с собой телефон. Пожар в ТЦ, вышла не на той остановке, таксист свернул не туда. Телефон должен быть включен и заряжен, чтобы всегда можно было связаться с родителями.
Второе. Знать, что такое «цифровой след». В Интернете ничего не пропадает бесследно. Это очень важно. Не стоит оскорблять кого-то, проявлять неуважение в Сети. Время пробежит быстро, и при трудоустройстве работодатель будет тщательно мониторить страницы, желая узнать, что собой представляет его будущий работник. Это касается и фотографий. Знаю много случаев, когда на такие фото и видео накладывают другие титры, озвучку и ребенок очень переживает, что его изображение используется в каких-то злых целях. Не все можно исправить, так как многие соцсети не реагируют на жалобы (например, ТикТок). В итоге можно получить серьезную психологическую травму.
И еще. Под видом сверстников в Интернете с детьми часто знакомятся мошенники, которые при получении фото требуют перевести деньги, причинить вред себе или окружающим, набиваются на встречи. Так что в Сети нужно соблюдать максимальную внимательность и аккуратность. Родители могут разъяснить детям какой-то минимум о запретах и наказаниях. Даже взрослые до сих пор думают, что за репост в соцсетях ничего не будет, а между тем дети попадают в СИЗО за преступления уже с 14 лет.
— Да, для ребенка мир полон опасностей. Что еще?
— Есть еще ряд правил, которые необходимо соблюдать в повседневности. Не пить в незнакомых местах и тем более с незнакомцами. Большинство преступлений впервые совершается в состоянии опьянения. Как правило, это происходит потому, что подростки не знают свою дозу, не могут остановиться и нередко соглашаются на криминал.
Не садиться в машину к пьяному водителю, и, даже если это родитель, надо найти тысячу способов, чтобы этого не делать. Ну и если «покататься» зовут подвыпившие, то от них следует просто бежать.
Нужно, чтобы ребенок адекватно оценивал свои силы. Например, не пытался конфликтовать со старшими, особенно на улице. Есть отморозки, которые запросто могут выйти из машины и ударить девочку, кинувшую снежком в автомобиль. Дети часто думают, что взрослый не ударит, но это не так.
И еще момент. Бывают случаи, когда взрослые знакомые просят детей взять вину на себя, поскольку несовершеннолетним за это якобы ничего не будет. Это не так, ответственность за большинство краж наступает уже с 14 лет. Или, допустим, компания подростков может совершать кражу, а ребенка попросили постоять рядом. Если что-то украдут, отвечать будут все по статье «группой лиц по предварительному сговору».
— Я видел сюжет, как ребенка разводили мошенники, потому что он поднял кошелек.
— Вообще очень актуально правило ничего не поднимать, не брать, не передавать. Находку в людном месте могут расценить как кражу. Это касается случаев, когда очевидно, что хозяин может вернуться, чтобы искать потерянное. В коробке, которую ребенка попросили передать, может находиться запрещенное вещество. Ответственность за такие действия — лишение свободы уже с 16 лет. Или, допустим, подросток нашел карту и потратил с нее деньги. В моей практике был случай, когда 15-летний мальчик списал деньги на компьютерную игрушку и был привлечен за кражу.
Ну и последнее. Если вляпался в неприятности, расскажи маме или папе. Для решения проблем у родителей гораздо больше опыта. Не нужно занимать деньги у сверстников, искать решение в Интернете, убегать из дома. Детские проблемы решаются гораздо проще, чем кажется.